Колумнист журнала New Yorker Джон Сибрук: «Нельзя притворяться, что Рианны не существует. Джон Сибрук «Nobrow
Посвящается Лизе
Старые различия между высокой культурой аристократии и коммерческой культурой масс были уничтожены, и на их месте возникла иерархия «модности». Конечно же, ноубрау не является культурой, совершенно лишенной иерархии, но в нем коммерческая культура – потенциальный источник статуса, а не объект неприятия элиты.
Financial Times
«Тезисы Сибрука, равно как его удивительно точные формулировки – пожалуй лучший и, несомненно, самый убедительный язык, который только и можно использовать для описания влияния маркетинга на современную культуру».
1. Место в Шуме
Я вошел в вагон метро на Франклин-стрит, и двери с шумом захлопнулись за мной. Часы показывали одиннадцать утра, и вагон был наполовину пуст. Я вытянул ноги в проход и начал читать «Нью-Йорк пост» по своей обычной формуле: одна остановка на колонку сплетен, две – на новости СМИ и четыре – на спорт, хотя в этот день я позволил себе целых пять, чтобы прочесть превью баскетбольного матча между «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». На голове у меня поверх нейлоновой кепки тюремного стиля были дорогие черные наушники CD-плеера – эту моду я перенял у парней из рэп-клипов.
В плеере играл Бигги Смоллз, альбом Ready to Die :
У меня неслабый поэтический дар
Я подарю вам свой член
Tвоим почкам капут
Вот и мы, вот и мы
Но я тебе не Домино
У меня есть моя музыка
Она сдернет с тебя трусы
Tак
Угадай
Что у меня за размер
В джинсах Карл Кани
Tринадцать, знаешь, что это?
Оторвавшись от газеты, я посмотрел на других пассажиров. Люди в основном ехали из Бруклина. У некоторых тоже играл в наушниках рэп. Внешняя урбанистическая пустота при внутреннем беспокойстве и экстремизме музыки. Я испытал то же самое странное чувство отрешенности от всего, которое ощущаешь, гуляя по вычищенным улицам Нью-Йорка времен мэра Джулиани. На первый взгляд все просто замечательно: великое финансовое процветание меньшинства, деньги повсюду, потребительский рай в магазинах. Но за этим фасадом существует мир тех несчастных, которых полицейские тыкают носом в грязный пол, надевая на них наручники, – жизнь, которую люди вроде меня видели только в сериале «Копы». Рэп, а в особенности гангста-рэп, соединил в себе идеологию наживы и расизм: фальшивую демонстрацию процветания и счастья на Манхэттене и подлинные социальные проблемы обычных людей. По крайней мере, в восьмидесятые годы на улицах было много бездомных, словно напоминающих об ужасающей социальной несправедливости в обществе, но теперь большую часть их тоже «вычистили».
Возвращаясь к газете, я позволяю гангста-рэпу проникнуть в меня, белого парня, и говорю: «Мужик, ты самый крутой, и ни один из этих людей, здесь, в этом гребаном вагоне, не сможет тебя поиметь, а если все же кто-то рискнет, то я всех уделаю. Вы хоть знаете, мать вашу, кто я такой?».
Выйдя из метро на Тайм-сквер, я сунул плеер в карман кожаной куртки, придерживая ее полу рукой, чтобы диск не «скакал» при ходьбе. Снега на тротуаре не было, только тонкий, словно мел, налет инея, который всегда бывает в январе, – на нем скользят подошвы. Воздух казался размытым из-за странного желтого сияния Тайм-сквер при дневном свете – смеси солнца и рекламных огней, настоящего и искусственного. Это и был цвет Шума. Шум (Buzz) – коллективный поток сознания, «шумящий сумбур» Уильяма Джеймса, объективированная, бесформенная субстанция, в которой смешаны политика и сплетни, искусство и порнография, добродетель и деньги, слава героев и известность убийц. На Тайм-сквер можно почувствовать, как Шум проникает в твое сознание. И он меня успокаивал. Я иногда останавливался здесь по дороге с работы или на работу, позволяя желтому сиянию проникнуть в мой мозг. В такие моменты внешний мир и мир моего сознания становились единым целым.
Двигаясь по тротуару, я заметил, что все идущие навстречу непременно бросают взгляд на большой телеэкран Panasonic Astrovision на углу Тайм-сквер у меня за спиной. Я обернулся. На экране я увидел президента Клинтона – подняв руку и задерживая дыхание, он торжественно клялся на Конституции Соединенных Штатов Америки. Это был день его инаугурации. Черт, я совсем забыл, что сегодня такой важный день для страны. Укрывшись от холодного ветра за телефонными будками на углу Бродвея и Сорок третьей улицы, я смотрел церемонию, читая слова клятвы президента по субтитрам внизу экрана.
Прямо под Клинтоном электронное табло индекса Доу-Джонса сообщало хорошие новости о ситуации в экономике. Над головой президента виднелась десятиметровая бутылка пива «Будвайзер», а еще выше – гигантская тарелка макарон. Хорошее сочетание символов: деньги – внизу, в самом богатом слое почвы, дающем пищу культуре, государственная политика, чья задача состоит не в том, чтобы быть лидером, а в том, чтобы развлекать и отвлекать, – в середине, а на самой вершине – продукт. Клинтон, похоже, вошел в эту систему абсолютно безболезненно. Здесь, на Тайм-сквер, в хаотичном слиянии знаков и брендов – кока-кола, Дисней, MTV , «Звездные войны», Кельвин Клайн, – находящихся так близко друг к другу, словно это Лас-Вегас, наш лидер чувствовал себя очень уютно. Практически все отвлекались от дел, которые привели их на Тайм-сквер, тут же останавливались и глядели не отрываясь на огромное изображение только что переизбранного на второй срок президента.
Завершив обряд, Клинтон подошел к трибуне, чтобы произнести инаугурационную речь. Я остался стоять на том же месте рядом с черным мужчиной в куртке «Оукленд Рэйдерс». Я читал субтитры на экране, а в наушниках гремел похотливый убийственный рэп в исполнении Би Ай Джи, и в мозгу у меня возникла, накладываясь на изображение президента, картинка из рэп-видео. Тем временем президент продолжал взывать к чувству ответственности граждан:
«Каждый из нас должен взять на себя личную ответственность – не только за себя и своих близких, но и за соседей, за всю страну…»
Насрать на прошлое,
Мы сейчас
В «500 SL»,
«Э», и «Д» и джинжер эль,
Карманы распухают
До краев,
Полные Бенджаминов.
Хоть я и пытался сосредоточиться на смысле слов президента, я не мог, как обычно, не пытаться одновременно разгадать смысл рэп-песни. «500 SL» – это, очевидно, «Мерседес 500 SL», а Бенджамины – Бенджамины Франклины, то есть стодолларовые купюры. «Э» и «Д»… Гм-м… А, понятно – Эрнст и Джулио Галло.
«Но не будем забывать: величайшие успехи, которых мы достигли, и величайшие успехи, которых мы еще должны достичь, все они заключаются в человеческой душе. В конце концов, все богатство мира и тысячи армий не смогут противостоять силе и величию человеческого духа».
Пиарщики Рональда Рейгана умело манипулировали его имиджем, но, думая о нем сейчас, я нахожу, что он был старомоден. Моральный авторитет, основанный на личных убеждениях, был важным качеством Рейгана. Но президентство Клинтона показало, что можно руководить страной и без морального авторитета, если ты достаточно хитер. Клинтон придавал опросам общественного мнения такое значение, как ни один из предыдущих хозяев Белого дома. Эти опросы напоминали скорее исследования рынка. Над тем же проектом, что и в Белом доме, работали в офисах медиа-магнатов на Тайм-сквер, и этот проект присутствовал во всех сферах культуры. Это была попытка сблизить потребление и производство: выяснить, что нужно публике, и дать ей это. Опросы, фокус-группы и другие формы маркетинговых исследований заменили старую систему ценностей, основанную на интуиции, и за нее отвечали конкретные люди. Теперь все свелось к цифрам: рейтинги присваивались даже культуре, которую до этого никто не пытался ни измерить, ни выразить в цифрах. Клинтон был идеальным менеджером такого общества.
Я свернул на Седьмую авеню. Тайм-сквер менялся. С него исчезали секс-шопы по той же причине, что и артхаусные кинотеатры с Верхнего Вест-сайда: граница между искусством и порнографией стерлась. Исчезли бары, в которых сидели проститутки и сутенеры, исчезли залы видеоигр, где я провел много часов, играя в Missile Command в 1983-м. Самой этой игры, целью которой было попытаться спасти мир, тоже не стало. В играх типа Doom или Quake максимум, на что можно было надеяться, так это на спасение самого себя. На месте залов видеоигр теперь были спортивные магазины, магазины Gap, кофейни Starbucks и мегастор Virgin, продававшие товары под брендом «Америка», который скоро превратится в бренд «Мир». Новый Тайм-сквер многие хвалили, говоря, что теперь он намного лучше прежнего (газета «Нью-Йорк таймс", лидер общественного мнения по этой теме, владела большим куском Тайм-сквер). Но все, что происходило до сих пор, было разрушением неповторимой местной культуры и заменой ее усредненной культурой маркетинга, и мне новый Тайм-сквер не казался лучше. Для меня это была огромная катастрофа.
Пересекая Сорок пятую улицу, я прошел мимо кафе All Star и зашел в мегастор Virgin. Спонтанный уличный колорит удивительно органично вписался в продуманный интерьер музыкального магазина. Покупатели плавно двигались, кайфуя в визуальной и звуковой какофонии, не обращая внимания на виртуальный мир снаружи. Стоя на эскалаторе, они поглядывали друг на друга, медленно погружаясь в тепловатую ванну поп-культуры или выходя из нее. Небольшие мониторы и два огромных экрана над головой показывали видеоклипы. Все эти мелькания и перемещения на экранах, казалось, имели неотразимое воздействие на рецепторы мозга, который, после всех этих столетий эволюции, все еще не мог не реагировать на движение (может, он все еще охотится на мух? Следит, чтобы поблизости не было хищников?). Энди Уорхол сделал этот феномен основным принципом своей киноэстетики: «Если предмет движется, на него будут смотреть».
Прямо при входе в мегастор расположился огромный отдел поп-музыки под вывеской Rock/Soul, включавший в себя весь ее диапазон – от «Иглз» до Pere Ubu и Эл Грина, – плюс всевозможные проявления иронии, аллюзий, банальности и скуки между этими полюсами. Эта гигантская культурная копилка вызывала множество ассоциаций. Среди групп, чьи пластинки здесь продавались, были и такие, которые можно было считать поп-культурным эквивалентом меток на двери, показывающих, на сколько сантиметров ребенок вырос за год. Джексон Браун, Джеймс Тейлор, Нил Янг, звезды фолк– и кантри-рока семидесятых, многие из которых выходили на лейбле Asylum, основанном Дэвидом Геффеном, – все они излучали какое-то мирное, простое чувство и стали моей первой любовью в мире поп-музыки. Двенадцатилетним мрачным и депрессивным подростком я слушал их в своей комнате, выключив свет. Панк-рок спас меня от вредных испарений фолк-рока: Игги Поп, Патти Смит и SexPislols, а потом и Talking Heads, сделавшие панк мейнстримом. В то время я еще не понимал, что переход от «поддельного» калифорнийского саунда к «настоящему» британскому андеграундному панку был серьезной антитезой, которая тем или иным образом определила все последующее развитие поп-музыки. После TalkingHeads пришли группы вроде Duran Duran, The Cure и The Cars, которые превратили «подлинный» саунд панк-рока в фальшивую «новую волну», оттолкнув меня от поп-музыки, когда мне было лишь немного за двадцать. Позднее волосатые группы восьмидесятых – Van Halen, Guns n"Roses и возродившийся Aerosmith – также не способствовали моему интересу к поп-музыке. А потом появилась «Нирвана» – группа, изменившая все.
До нее мой культурный опыт совершал более или менее величавое движение вверх по иерархии вкуса от коммерческой культуры к элитарной. Но когда в тридцать один год я услышал «Нирвану», поток культуры, проходивший через меня, замедлился, остановился, а потом двинулся в совершенно другом направлении. После «Нирваны» я стал следить за поп-музыкой с такой энергией, с какой никогда не следил за ней даже подростком: тогда я больше думал о своей будущей взрослой жизни, чем о музыке. Поп-музыка помогла мне сохранить в себе подростка, став особым критерием для меня как для взрослого. Я заинтересовался хип-хопом, потом его поджанрами вроде гангста-рэпа, потом техно, и сейчас я слушал весь громадный пласт между техно и хип-хопом – эсид, транс, джангл, биг-бит, эмбиент, – и все это казалось мне будущим поп-музыки.
Ребенком я думал, что стать взрослым – это значит перестать слушать поп-музыку и перейти к классике или хотя бы интеллигентному джазу. Иерархия вкуса была лестницей, по которой ты двигался к своей взрослой идентичности. День, когда ты впервые надевал вечерний костюм и шел на первое представление «Аиды» по абонементу Метрополитен-Опера, был днем, когда ты переступал невидимый порог во взрослую жизнь. Но последние пять лет, слушая поп-музыку, я иногда испытывал такие возвышенные, чуть ли не мистические чувства, какие уже давно не вызывали во мне ни опера, ни симфоническая музыка, – словно музыка, смысл и время соединяются воедино, наполняя тебя «океаническим чувством», которое, как писал Фрейд, характеризует мощное эстетическое переживание.
Месяцем раньше я испытал «океаническое чувство» на концерте группы Chemical Brothers в клубе «Рокси», куда меня привел один из друзей. Chemical Brothers – это двое молодых музыкантов-программистов, вышедших из танцевальной культуры британского города Манчестера, инспирированной «экстази». Они начинали с сетов в заброшенных заводских цехах, оставшихся от индустриальной революции девятнадцатого века и превращенных в источники уличного стиля конца двадцатого, но сохранивших при этом мрачную инфернальную атмосферу.
Мы целый час мерзли на улице перед входом в «Рокси», в то время как бритоголовые парни в огромных куртках на меху ходили взад-вперед, бормоча: «Ктопродастбилет-ктопродаст-билет-ктопродастбилет». Как и на других концертах, мы оказались едва ли не самыми старшими в зале. Поход на концерт еще одной новой модной группы был едва ли не главным культурным удовольствием нашей взрослой жизни. Эти впечатляющие моменты экстатического единения с молодыми стояли особняком в предсказуемом меню респектабельной культуры – современные пьесы, выставки Ротко, опера, иногда хеппенинги в клубах Kitchen или Knitting Factory. После концерта мы вернемся домой к женам и детям и к нашему утонченному меню из высокой, средней и низкой культуры, к тому, к чему привыкли, но сейчас, в присутствии музыки, не вписывающейся ни в какие традиционные рамки, мы ощущали себя как никогда «живыми», элитарная культура никогда не вызывала в нас такого чувства.
Наконец мы попали внутрь и прошли на танцплощадку. Большинство стоявших там ребят были озабочены только тем, как правильно выбрать момент для принятия принесенных с собой веществ, чтобы пик наркотического кайфа совпал с пиком кайфа музыкального. После довольно долгого ожидания кто-то вышел на темную сцену, и толпа встрепенулась. Начал пульсировать зловещий ритм, словно выкачивая черную хлюпающую жидкость из компьютера и выплескивая ее на зрителей. Затем прозвучала семплированная фраза из песни Блэйка Бакстера, повторенная четыре раза: dabrothersgonnaworkitout («братьясэтимразберутся ». – Прим. пер.). После каждых четырех ударов в микс включался новый компьютерный ритм, а в последней вещи появилась перегруженная гитара. Из-за того, что музыка была сделана на синтезаторах, она обладала геометрической регулярностью, позволяя интуитивно понять, куда направляются линии саунда и в какой момент они сольются. Это напоминало чтение сонета: ты ждешь определенную форму еще до появления содержания. Происходило звуковое слияние: все ритмические вариации и искажения, до этого, казалось, несовместимые друг с другом, готовы были вот-вот сойтись во взрыве соединенного звука.
Мой друг повернулся ко мне и прокричал: «Сейчас будет РЕАЛЬНО громко!..».
А потом что-то словно лопнуло, и на меня снизошло просветление в виде мощнейшего акустического удара в грудную клетку, отбросившего нас назад, как кегли в боулинге. Мелькающие прожекторы осветили волосы одного из музыкантов – блондина, склонившегося над инструментом, – поймав его в самый идеальный момент: в стремительном движении вверх из субкультуры клубов, наркотиков и компьютеров в мейнстрим музыкальной индустрии и канала MTV. Последний надеялся объединить все поджанры техно и хаус-музыки в один большой жанр «Электроника», подобно маркетинговой категории «Альтернативная музыка», которая появилась благодаря успеху «Нирваны». Уже через месяц Chemical Brothers будут вовсю крутить на MTV. В один из безумных моментов того вечера я обернулся и увидел, как позади меня в VFP-зоне приплясывала Джуди Макграт, президент MTV.
Затем последовала еще одна вспышка, предварив появление поп-иконы нового типа: артиста со своей информационной консолью, из которой хлещут звуки, стили, свет, идеи, нервная агония коры головного мозга, пытающегося поглотить всю цифровую информацию, которая в него вливается. Жара в клубе, сумасшествие толпы, воздействие косяка, только что выкуренного нами, – все это способствовало мощнейшему культурному переживанию, моменту «ноубрау» (nobrow) – не высокой (highbrow – дословно: высокобровый. – Прим. пер.) и не низкой (lowbrow – низкобровый. – Прим. пер.), и даже не средней (middlebrow) культуры, а культуры, существующей вообще вне старой иерархии вкуса. Этот момент был еще свеж в моей памяти, когда я спускался на эскалаторе на нижний уровень мегастора, осторожно погружаясь в ванну Шума по пути в отдел импортных дисков, где надеялся найти пластинку с легендарными концертами Chemical Brothers в лондонском клубе Heavenly Social.
На этом же уровне, справа от эскалатора, располагался отдел классической музыки. Спрятавшийся за толстыми стеклянными стенами от грубых звуков из соседнего отдела, где сальса, афро-галльские барабаны, регги и португальское фадо сливались в какофонию под названием world music, он был андеграундным бункером старой элитарной культуры, ее последним прибежищем здесь, на Тайм-сквер. Тут часто показывали неплохое видео, обычно в нем присутствовал Джеймс Левин за дирижерским пультом или Владимир Горовиц за фортепиано. За этими толстыми стеклянными стенами ощущалась академическая стерильность, на которую обрекли классическую музыку современные композиторы, решив, что популярность и коммерческий успех – это компромисс. Все их самые оригинальные идеи – электронные и атональные вариации, резкие изменения мелодии – давно уже нашли поп-культурное воплощение в отделах джаза и техно. В то же время индустрия классической музыки практически разрушила себя сама, продолжая из года в год выпускать записи лучших оркестров мира, исполняющих один и тот же стандартный набор произведений, несмотря на то что разница в исполнении может быть интересна очень немногим, и еще меньше ценителей смогут эту разницу обнаружить. В результате потенциально интересный жанр оказался в тюрьме стеклянных стен. Отдел классической музыки был практически пуст; как я недавно узнал, этим можно было воспользоваться и платить в нем за диски из других отделов, когда к кассам наверху стоят большие очереди.
Я не нашел того, что искал в отделе импортных дисков, зато обнаружил несколько других альбомов, которые хотел купить, – пластинку джангл-диджея Эл Ти Джей Букема и сборник треков-гибридов рока и техно Big Beat Manifesto. (Характерный для супермаркета способ сбыта: усовершенствование товара за счет более широкого набора его характеристик и их неожиданного соединения.) Кроме того, вернувшись наверх, я нашел диск группы из Эссекса Underworld под названием Dubnoasswithmyheadman, который мне очень хвалили. Через двадцать минут я снова был на Тайм-сквер, держа в руках красный пластиковый пакет с дисками на сумму $59,49. На Сорок пятой улице я остановился, распечатал диск Underworld, открыл пластиковую коробку, извлек из нее драгоценную полиуретановую конфетку и вставил в плеер.
Клинтон уже закончил свое обращение к гражданам, и люди на Тайм-сквер перенесли свое внимание на другие объекты. Я постоял еще некоторое время в желтом сиянии, дожидаясь, пока техно в наушниках вернет моему сознанию порядок, нарушенный гангста-рэпом. Строчка «Небоскреб, я люблю тебя» отложилась у меня в мозгу подобно тому, как раньше, до того, как я купил плеер и сделал поп-музыку саундтреком своих перемещений по городу, в мозгу у меня оседали стихотворные строчки.
Я двинулся по Сорок четвертой улице мимо изящных завитков в неоклассическом стиле на стенах театра Беласко и через рифленые колонны старой элитарной культуры Нью-Йорка. У Шестой авеню я срезал угол, пройдя через отель «Ройялтон». Ресторан отеля, имевший название «44», был своего рода столовой издательского дома Condé Nast. Почти ежедневно на четырех скамьях, обитых зелено-желтым бархатом, можно было увидеть самых важных редакторов Condé Nast, культурных арбитров моего мира: Анну Винтур из Vogue , Грэйдона Картера из Vanity Fair , Тину Браун из «Нью-Йоркера» и, возможно, Арта Купера из GQ за четвертым столом или, может быть, кого-то из подающих надежды журналистов, занявших сегодня это почетное место. Этот ресторан часто сравнивали с Algonquin на Сорок четвертой улице, но там главенствовал интеллект, а в «44» – статус. Воздух в ресторане, казалось, становился более плотным от восхищенных взглядов, устремленных на людей, достигших своего статуса.
Было еще рано, и редакторы журналов не сидели пока на своих обычных местах, хотя в ресторане уже тусовались несколько журнальных типов в пиджаках поверх черных дорогих маек – этот стиль, соединявший в себе низкое и высокое, нравился Саю Ньюхаусу, владельцу Condé Nast .
На Сорок третьей я свернул налево и прошел полквартала до дома номер двадцать, в котором располагалась редакция журнала «Нью-Йоркер», моего работодателя. Три молодые женщины в черном, курившие во дворе, проскользнули передо мной во вращающуюся дверь.
«Нью-Йоркер» занимал три этажа, с шестнадцатого по восемнадцатый. Редакторы и журналисты работали на шестнадцатом и семнадцатом, а рекламный отдел и менеджмент располагались над ними. Хотя руководство можно было увидеть и на «журналистских» этажах – особенно с тех пор, как редактором стала Тина Браун, – традиционное разделение «между государством и церковью» – между редакционным и рекламным отделами – сохранялось в журнале. Жесткость этого разделения была особенно заметна во внешнем виде старого «Нью-Йоркера», где колонки текста обычно означали редакционный материал, а фотографии и прочие привлекающие внимание элементы – рекламу.
Единственный раз я был на этаже руководства, когда участвовал в одном мероприятии, проводившемся в элегантном конференц-зале, оборудовать который наша Тина убедила Сая Ньюхауса. В конференц-зале проходили в том числе и регулярные «круглые столы», которые Тина умело использовала для продвижения бренда журнала: на них журналисты «Нью-Йоркера» задавали вопросы знаменитостям вроде Элтона Джона или Лорен Хаттон, а в качестве аудитории выступали рекламодатели журнала. Самым скандально известным «круглым столом» стал один из последних с участием Дика Морриса, бывшего президентского советника, который всего за неделю до этого покинул пост ведущего стратега администрации Клинтона из-за своей связи с проституткой. Стены конференц-зала были украшены портретами известных людей и карикатурами из журнала. Портрет апатичной, все повидавшей Дороти Паркер, участницы старых «круглых столов», контрастировал с висящим напротив портретом игривого Дональда Трампа, типичного объекта интереса журнала эры Тины Браун.
Блестящие двери лифта соединились, он протяжно загудел, и я ощутил давление в подошвах. Я готовился войти в редакцию. За тридцать одну секунду (без остановок) подъема на шестнадцатый этаж нужно было выпустить из себя, отбросить на время культуру улицы, чтобы войти в мир, где слово «культура» все еще было синонимом слов «вежливость» и «образованность». Я стащил с головы наушники, снял кепку и солнечные очки и пригладил свои длинные волосы, глядя на отражение в блестящей металлической двери лифта.
В детстве я составил представление о том, что такое культура, благодаря журналу «Нью-Йоркер», который лежал на кофейном столике в доме моих родителей в Нью-Джерси вместе с другими среднеинтеллектуальными журналами, такими как Holiday , Life и Look . Представляемая «Нью-Йоркером» культура была элитарной, благопристойной и даже изящной. Культура была объектом устремлений, оставаясь при этом достаточно демократичной: ею мог обладать любой, даже если у него не было кофейного столика, чтобы выложить ее на всеобщее обозрение. Использование местоимения «мы» в редакционных статьях журнала предполагало существование некоего центра культуры, точки зрения, с которой любой мог увидеть все важное в культуре; а то, чего он видеть не мог, представлялось не слишком важным. Мы страстно интересовались так называемой элитарной, канонической, или высокой, культурой, состоявшей из традиционных видов искусства аристократии – живопись, музыка, театр, балет и литература. Мы также интересовались джазом, и мы научились ценить фильмы Полины Каэл и воспринимать телевидение лишь наполовину всерьез благодаря Майклу Арлену, но нас мало волновали рок-н-ролл, уличный стиль и молодежная культура. Чтобы сохранить авторитет этого «мы» – подразумевавшего, что иерархические различия и суждения «Нью-Йоркера» были не элитарными, а всеобщими, – журналу со временем пришлось отгородиться от еще большей части коммерческой культуры. Нам мог не нравиться рэп, но, когда он стал частью мейнстрима, мы не могли высказаться о нем со знанием дела и, в конце концов, просто остались в стороне.
В старом «Нью-Йоркере» каждое предложение было сентенцией, обращающей на соседние предложения ровно столько внимания, сколько требовали правила приличия. Факты подавались один за другим практически без украшательств. Кричащие заголовки, утонченный стиль письма, социологический жаргон, академическая теория – все, что было рассчитано на то, чтобы привлечь внимание или спровоцировать спор, скрупулезно удалялось из статей «Нью-Йоркера», публиковавшихся без фотоиллюстраций. Но еще более важно, что в тексте не допускалось ничего, что можно было назвать «новомодным». Подписчик «Нью-Йоркера» должен был быть уверен, что, открывая журнал, он испытает то же чувство, что и аристократ, входя в джентльменский клуб и оставляя грубый потребительский мир за дверями.
Более ста лет так функционировало в Америке понятие статуса. Ты зарабатывал деньги в том или ином коммерческом предприятии и потом, чтобы укрепить свое положение в обществе и отгородиться от других, вырабатывал в себе презрение к дешевым развлечениям и традиционным зрелищам, составлявшим массовую культуру. Старый «Нью-Йоркер» идеально соответствовал этой системе, что делало журнал столь привлекательным для рекламодателей. Подобно тому как «Кадиллак» рекламировал самый бесшумный автомобиль, а часы «Патек Филип» были лучшими среди недооцененной роскоши, «Нью-Йоркер» предлагал читателям изысканный, благопристойный и пассивно снобистский взгляд на события в мире, счастливо избавленный от этого орущего и визжащего карнавала за пределами его страниц.
В этом подходе присутствовала определенная доля фальши, потому что «Нью-Йоркер» был сам по себе коммерческим предприятием. Но многое в стандартах журнала вызывало восхищение. Основным источником морального авторитета «Нью-Йоркера» было противостояние тому, что вело к деградации культурной жизни – рекламе, бездумному следованию стандартам «статуса», вульгарным телезвездам – и недопущение в тексты, которые журнал предлагал читателям, всего того, что сейчас называется Шум . В этом журнал был одной из составляющих более высокого морального авторитета классических законодателей вкусов, действовавших по принципу Мэттью Арнольда: «Стремиться объективно пропагандировать все лучшее, что существует в мире».
В журнале источником морального авторитета были личные убеждения Уильяма Шона, бывшего редактором с 1951 по 1987 год. Его редакторская философия высказана в комментарии, опубликованном 22 апреля 1985 года, вскоре после того как Сай Ньюхаус купил «Нью-Йоркер» за 168 миллионов долларов у Питера Флайшманна, отец которого, Рауль, основал журнал вместе с Харольдом Россом в 1925 году. «Мы никогда не публиковали ничего с коммерческой целью, – писал Шон, – или для того, чтобы создать сенсацию, заработать скандальную репутацию, стать популярными или модными, успешными». В эти слова сейчас трудно поверить. Неужели так можно издавать журнал? Тем более очень «успешный»?
В 1987 году после пяти лет написания статей и рецензий для разных журналов я отправил образцы своей работы Роберту Готтлибу, сменившему Шона у руля «Нью-Йоркера». Через неделю Готтлиб позвонил и пригласил меня на встречу.
Сегодня та встреча в старом здании «Нью-Йоркера» на Сорок третьей улице кажется мне словно посланием из далекого времени, исчезнувшего подобно миру средневековой галантной любви. Кабинеты в старом здании были заполнены потертыми диванами, поцарапанными столами, стопками пылящихся рукописей и глубоко въевшейся грязью – этот стиль выражал отношение самого Шона к глянцу и гламуру. Некоторые из тех, кто в первый раз попадал сюда, ожидая увидеть нечто соответствующее их возвышенным ожиданиям – эдакое благополучие среднего класса, соответствующее культурной политике журнала, – были ошеломлены и потрясены убогим видом редакции. Но со мной этого не произошло, потому что я тоже придерживался позиции «мы слишком культурны, чтобы обращать на это внимание».
Джон Сибрук. Nobrow®
Культура маркетинга.
Маркетинг культуры
Посвящается Лизе
Старые различия между высокой культурой аристократии и коммерческой культурой масс были уничтожены, и на их месте возникла иерархия «модности». Конечно же, ноубрау не является культурой, совершенно лишенной иерархии, но в нем коммерческая культура – потенциальный источник статуса, а не объект неприятия элиты.
Financial Times
«Тезисы Сибрука, равно как его удивительно точные формулировки – пожалуй лучший и, несомненно, самый убедительный язык, который только и можно использовать для описания влияния маркетинга на современную культуру».
1. Место в Шуме
Я вошел в вагон метро на Франклин-стрит, и двери с шумом захлопнулись за мной. Часы показывали одиннадцать утра, и вагон был наполовину пуст. Я вытянул ноги в проход и начал читать «Нью-Йорк пост» по своей обычной формуле: одна остановка на колонку сплетен, две – на новости СМИ и четыре – на спорт, хотя в этот день я позволил себе целых пять, чтобы прочесть превью баскетбольного матча между «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». На голове у меня поверх нейлоновой кепки тюремного стиля были дорогие черные наушники CD-плеера – эту моду я перенял у парней из рэп-клипов.
В плеере играл Бигги Смоллз, альбом Ready to Die :
У меня неслабый поэтический дар
Я подарю вам свой член
Tвоим почкам капут
Вот и мы, вот и мы
Но я тебе не Домино
У меня есть моя музыка
Она сдернет с тебя трусы
Tак
Угадай
Что у меня за размер
В джинсах Карл Кани
Tринадцать, знаешь, что это?
Оторвавшись от газеты, я посмотрел на других пассажиров. Люди в основном ехали из Бруклина. У некоторых тоже играл в наушниках рэп. Внешняя урбанистическая пустота при внутреннем беспокойстве и экстремизме музыки. Я испытал то же самое странное чувство отрешенности от всего, которое ощущаешь, гуляя по вычищенным улицам Нью-Йорка времен мэра Джулиани. На первый взгляд все просто замечательно: великое финансовое процветание меньшинства, деньги повсюду, потребительский рай в магазинах. Но за этим фасадом существует мир тех несчастных, которых полицейские тыкают носом в грязный пол, надевая на них наручники, – жизнь, которую люди вроде меня видели только в сериале «Копы». Рэп, а в особенности гангста-рэп, соединил в себе идеологию наживы и расизм: фальшивую демонстрацию процветания и счастья на Манхэттене и подлинные социальные проблемы обычных людей. По крайней мере, в восьмидесятые годы на улицах было много бездомных, словно напоминающих об ужасающей социальной несправедливости в обществе, но теперь большую часть их тоже «вычистили».
Возвращаясь к газете, я позволяю гангста-рэпу проникнуть в меня, белого парня, и говорю: «Мужик, ты самый крутой, и ни один из этих людей, здесь, в этом гребаном вагоне, не сможет тебя поиметь, а если все же кто-то рискнет, то я всех уделаю. Вы хоть знаете, мать вашу, кто я такой?».
Выйдя из метро на Тайм-сквер, я сунул плеер в карман кожаной куртки, придерживая ее полу рукой, чтобы диск не «скакал» при ходьбе. Снега на тротуаре не было, только тонкий, словно мел, налет инея, который всегда бывает в январе, – на нем скользят подошвы. Воздух казался размытым из-за странного желтого сияния Тайм-сквер при дневном свете – смеси солнца и рекламных огней, настоящего и искусственного. Это и был цвет Шума. Шум (Buzz) – коллективный поток сознания, «шумящий сумбур» Уильяма Джеймса, объективированная, бесформенная субстанция, в которой смешаны политика и сплетни, искусство и порнография, добродетель и деньги, слава героев и известность убийц. На Тайм-сквер можно почувствовать, как Шум проникает в твое сознание. И он меня успокаивал. Я иногда останавливался здесь по дороге с работы или на работу, позволяя желтому сиянию проникнуть в мой мозг. В такие моменты внешний мир и мир моего сознания становились единым целым.
Двигаясь по тротуару, я заметил, что все идущие навстречу непременно бросают взгляд на большой телеэкран Panasonic Astrovision на углу Тайм-сквер у меня за спиной. Я обернулся. На экране я увидел президента Клинтона – подняв руку и задерживая дыхание, он торжественно клялся на Конституции Соединенных Штатов Америки. Это был день его инаугурации. Черт, я совсем забыл, что сегодня такой важный день для страны. Укрывшись от холодного ветра за телефонными будками на углу Бродвея и Сорок третьей улицы, я смотрел церемонию, читая слова клятвы президента по субтитрам внизу экрана.
Прямо под Клинтоном электронное табло индекса Доу-Джонса сообщало хорошие новости о ситуации в экономике. Над головой президента виднелась десятиметровая бутылка пива «Будвайзер», а еще выше – гигантская тарелка макарон. Хорошее сочетание символов: деньги – внизу, в самом богатом слое почвы, дающем пищу культуре, государственная политика, чья задача состоит не в том, чтобы быть лидером, а в том, чтобы развлекать и отвлекать, – в середине, а на самой вершине – продукт. Клинтон, похоже, вошел в эту систему абсолютно безболезненно. Здесь, на Тайм-сквер, в хаотичном слиянии знаков и брендов – кока-кола, Дисней, MTV , «Звездные войны», Кельвин Клайн, – находящихся так близко друг к другу, словно это Лас-Вегас, наш лидер чувствовал себя очень уютно. Практически все отвлекались от дел, которые привели их на Тайм-сквер, тут же останавливались и глядели не отрываясь на огромное изображение только что переизбранного на второй срок президента.
Завершив обряд, Клинтон подошел к трибуне, чтобы произнести инаугурационную речь. Я остался стоять на том же месте рядом с черным мужчиной в куртке «Оукленд Рэйдерс». Я читал субтитры на экране, а в наушниках гремел похотливый убийственный рэп в исполнении Би Ай Джи, и в мозгу у меня возникла, накладываясь на изображение президента, картинка из рэп-видео. Тем временем президент продолжал взывать к чувству ответственности граждан:
«Каждый из нас должен взять на себя личную ответственность – не только за себя и своих близких, но и за соседей, за всю страну…»
Насрать на прошлое,
Мы сейчас
В «500 SL»,
«Э», и «Д» и джинжер эль,
Карманы распухают
До краев,
Полные Бенджаминов.
Хоть я и пытался сосредоточиться на смысле слов президента, я не мог, как обычно, не пытаться одновременно разгадать смысл рэп-песни. «500 SL» – это, очевидно, «Мерседес 500 SL», а Бенджамины – Бенджамины Франклины, то есть стодолларовые купюры. «Э» и «Д»… Гм-м… А, понятно – Эрнст и Джулио Галло.
«Но не будем забывать: величайшие успехи, которых мы достигли, и величайшие успехи, которых мы еще должны достичь, все они заключаются в человеческой душе. В конце концов, все богатство мира и тысячи армий не смогут противостоять силе и величию человеческого духа».
Пиарщики Рональда Рейгана умело манипулировали его имиджем, но, думая о нем сейчас, я нахожу, что он был старомоден. Моральный авторитет, основанный на личных убеждениях, был важным качеством Рейгана. Но президентство Клинтона показало, что можно руководить страной и без морального авторитета, если ты достаточно хитер. Клинтон придавал опросам общественного мнения такое значение, как ни один из предыдущих хозяев Белого дома. Эти опросы напоминали скорее исследования рынка. Над тем же проектом, что и в Белом доме, работали в офисах медиа-магнатов на Тайм-сквер, и этот проект присутствовал во всех сферах культуры. Это была попытка сблизить потребление и производство: выяснить, что нужно публике, и дать ей это. Опросы, фокус-группы и другие формы маркетинговых исследований заменили старую систему ценностей, основанную на интуиции, и за нее отвечали конкретные люди. Теперь все свелось к цифрам: рейтинги присваивались даже культуре, которую до этого никто не пытался ни измерить, ни выразить в цифрах. Клинтон был идеальным менеджером такого общества.
Я свернул на Седьмую авеню. Тайм-сквер менялся. С него исчезали секс-шопы по той же причине, что и артхаусные кинотеатры с Верхнего Вест-сайда: граница между искусством и порнографией стерлась. Исчезли бары, в которых сидели проститутки и сутенеры, исчезли залы видеоигр, где я провел много часов, играя в Missile Command в 1983-м. Самой этой игры, целью которой было попытаться спасти мир, тоже не стало. В играх типа Doom или Quake максимум, на что можно было надеяться, так это на спасение самого себя. На месте залов видеоигр теперь были спортивные магазины, магазины Gap, кофейни Starbucks и мегастор Virgin, продававшие товары под брендом «Америка», который скоро превратится в бренд «Мир». Новый Тайм-сквер многие хвалили, говоря, что теперь он намного лучше прежнего (газета «Нью-Йорк таймс", лидер общественного мнения по этой теме, владела большим куском Тайм-сквер). Но все, что происходило до сих пор, было разрушением неповторимой местной культуры и заменой ее усредненной культурой маркетинга, и мне новый Тайм-сквер не казался лучше. Для меня это была огромная катастрофа.
Русский перевод нашумевшей книги Сибрука про «ноубрау» вышел три года назад и вызвал в соответствующей среде оживление. Однако процессы, лихо описанные автором нового термина, имеют свойство вызревать. Или критически воспаляться, подобно нарыву. I gotta poison/I gotta remedy: альтернативы глобальной потребительской Империи тоже наверняка будут жёстче и «глобальнее» прежних
Напомню историю вопроса: преуспевающий обозреватель журнала «Нью-Йоркер» Джон Сибрук в 2000 году написал книгу «Nobrow. Культура маркетинга/Маркетинг Культуры»
(по-русски – М, Ad Marginem, 2004, в переводе В. Козлова). В манере занимательной культурологии Сибрук рассмотрел целый ряд текущих феноменов: от редакционной политики родного издания и динамики взлёта поп-звёзд до методов расположения красиво упакованных помидоров на полках супермаркетов.
Увлекательный и саркастический анализ приводит автора – типичного представителя супер-элиты «района Сороковых улиц» - к программным размышлениям об исчезновении в наше время культурных иерархий: различия между «высоким» и «низким», «элитарным» и «массовым» (позициями, в целом обозначенными словами «хайбрау» и «лоубрау») окончательно стёрты, более того – в нынешней культурной ситуации они лишены реального смысла. Наиболее подробный критический анализ построений Сибрука дан, к слову, в замечательной статье арт-критика Дмитрия Голынко-Вольфсона
«Агрессивно-пассивный гламур» http://xz.gif.ru/numbers/60/glamur/
 «К девяностым годам идея, что высокая культура является некоей высшей реальностью, а люди, которые ее создают, - высшими существами, была отправлена на помойку»
- без затей утверждает Сибрук. Если раньше (условно говоря – в эпоху модернити) во всём, от сочинения музыки до производства башмаков, имелись отличия по качеству и адресату продукта, то в постмодерновом мире иерархии и барьеры исчезают, уступая место «свободному выбору» в контексте неограниченного потребления. Наглядней всего, разумеется, это происходит в индустрии развлечений: «хайбрау» и «лобрау» сметены стратегией «нобрау», в рамках которой осуществляется молниеносная ротация «модного» и «немодного», крутится бесконечное колесо брэндов, позиционирований, субкультур, пёстрых оболочек-симулякров. Слово «культура» в значительной мере тоже теряет смысл. Понятие же маркетинга, напротив, представляется Сибруку единственно адекватным способом как объяснения, так и управления изменчивой сферой «ноубрау». Ничего, в общем, удивительного – такая роль маркетинга отлично выражена словами американской художницы Барбары Крюгер: «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за кошелёк».
«К девяностым годам идея, что высокая культура является некоей высшей реальностью, а люди, которые ее создают, - высшими существами, была отправлена на помойку»
- без затей утверждает Сибрук. Если раньше (условно говоря – в эпоху модернити) во всём, от сочинения музыки до производства башмаков, имелись отличия по качеству и адресату продукта, то в постмодерновом мире иерархии и барьеры исчезают, уступая место «свободному выбору» в контексте неограниченного потребления. Наглядней всего, разумеется, это происходит в индустрии развлечений: «хайбрау» и «лобрау» сметены стратегией «нобрау», в рамках которой осуществляется молниеносная ротация «модного» и «немодного», крутится бесконечное колесо брэндов, позиционирований, субкультур, пёстрых оболочек-симулякров. Слово «культура» в значительной мере тоже теряет смысл. Понятие же маркетинга, напротив, представляется Сибруку единственно адекватным способом как объяснения, так и управления изменчивой сферой «ноубрау». Ничего, в общем, удивительного – такая роль маркетинга отлично выражена словами американской художницы Барбары Крюгер: «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за кошелёк».
Культура (или, лучше, пост-культура) ноубрау держится исключительно на рыночной выгоде и «раскрутке» в масс-медиа. Кроме того, актуальный на данный момент тренд (будь то в дизайне одежды или «альтернативной» музыке, в голливудских блокбастерах или интеллектуальной беллетристике) должен быть одобрен «экспертным сообществом», которому, в свою очередь, не из чего исходить в отсутствие прежних категорий, кроме как из выверенного измерения чартов, хит-парадов, коррумпированных премий и – главное – интересов медиа и рекламы. Капитализм на новейшем витке провозглашает снятие иллюзорных покровов «культуры» со связки «производство/потребление», являя собой, по Бодрийару, «радикальную непристойность». Единственно возможная свобода при власти капитала – свобода потреблять – расцвечивается «порочными» красками тотального гламура: «В практическом ракурсе ноубрау – это установка на циничный консенсус элитарного и массового ради быстрой карьерной и финансовой выгоды» (Голынко-Вольфсон) .
 Идеология «ноубрау», «невольно» объективно размывая репрессивные «культурные» границы, преследует вполне сознательную цель: чтобы ничто не могло быть сказано и сделано из каких-то иных мотивов, нежели реализующих потребление. В «актуальном искусстве» это особенно ясно: к примеру, глядя на выставленные сейчас в Мраморном «радикальные» работы арт-группы АЕС+Ф
(особенно недавние), невозможно испытать ничего, кроме неглубокого любопытства и того, что Уорхол называл «quite fun». И это не «частный случай»: любые жесты, воспринимавшиеся ранее как подрывные, антибуржуазные (провокация, извращённый секс, тематизация насилия, отрицание «большой» культуры, нигилизм, обыгрывание революционных символов) в пространстве «ноубрау» служат лишь лёгкому пи-ар возбуждению. В некотором смысле честнее многих поступил Дэмиен Хёрст
– звезда номер один поколения Young British Artists – подтвердив статус мега-успешного «радикала» недавней работой в виде платиново-брильянтового черепа за 20 000 000 $.
Идеология «ноубрау», «невольно» объективно размывая репрессивные «культурные» границы, преследует вполне сознательную цель: чтобы ничто не могло быть сказано и сделано из каких-то иных мотивов, нежели реализующих потребление. В «актуальном искусстве» это особенно ясно: к примеру, глядя на выставленные сейчас в Мраморном «радикальные» работы арт-группы АЕС+Ф
(особенно недавние), невозможно испытать ничего, кроме неглубокого любопытства и того, что Уорхол называл «quite fun». И это не «частный случай»: любые жесты, воспринимавшиеся ранее как подрывные, антибуржуазные (провокация, извращённый секс, тематизация насилия, отрицание «большой» культуры, нигилизм, обыгрывание революционных символов) в пространстве «ноубрау» служат лишь лёгкому пи-ар возбуждению. В некотором смысле честнее многих поступил Дэмиен Хёрст
– звезда номер один поколения Young British Artists – подтвердив статус мега-успешного «радикала» недавней работой в виде платиново-брильянтового черепа за 20 000 000 $.
Остроумно доказанная Джоном Сибруком «обнулённая» формула правящего класса по имени «ноубрау» не всегда, конечно, способна хранить неотразимое циничное спокойствие и не всё на свете может классифицировать / обезвреживать словечками «трэш» и «хайп». Подлинные, свирепые симптомы иного мира и взгляда на мир вызывают у обслуги глобальной власти столь же искреннюю ярость. И уж конечно, эра «ноубрау» не абсолютна и не вечна. Но об этом – не сегодня.
+
Кажется, что на заре XXI века популярная музыка достигла совершенно новой фазы развития. Для того чтобы написать песню, уже не требуется виртуозно играть на гитаре и обладать поэтическим талантом, а чтобы ее спеть, не нужен мощный голос – добро пожаловать...
- 14 апреля 2015, 21:03
Жанр: ,
+Я пытался найти неформальный стиль, который хорошо отражал бы мою натуру в том виде, в каком я ее себе на тот момент представлял. (Как известно, одежда – это не про то, кем мы являемся, а про то, кем мы хотели бы быть.) В процессе я уяснил для себя меланхоличную истину, которая неизбежно открывается всем мужчинам при попытке освоить новый офисный casual: одеваясь неформально, мужчина обязан принимать моду значительно более всерьез, нежели когда в офисе принят строгий дресс-код. Новый неформальный стиль, как и старый неформальный стиль, призван сообщать идею легкости и комфорта. Однако же, в отличие от старого, новый неформальный стиль – это про статус.
- 21 декабря 2013, 03:39
Жанр: ,
+Как изменился культурный ландшафт после появления глобального супермаркета? Что произошло с современным искусством после Энди Уорхола, с поп-музыкой – после Нирваны и MTV, с кино – после «Звездных войн»? И так ли важны сегодня, когда лейбл на вашей майке ценнее ее фасона, старые понятия вкуса и стиля? Ответы на эти вопросы предлагает в своей книге Джон Сибрук, колумнист журнала New Yorker, Harper’s Bazaar, GQ, Vanity Fair, Vogue, Village Voice. Его исследование – путеводитель по современной культуре, в которой информационный шум оказывается важнее самого события, качество равно актуальности, и уже никто не в состоянии отделить продукт от его позиционирования, а культурную ценность – от рыночной стоимости. Добро пожаловать в мир Nobrow! Мир, в котором вы уже давно живете, хотя и боитесь себе в этом...
Американский культуролог, журналист и колумнист журнала New Yorker Джон Сибрук нашел слово, более всего подходящее для описания современной культуры — «ноубрау» (nobrow ):культуры не высокой (highbrow — «заумный», «высоколобый» или, дословно, «высокобровый») и не низкой (lowbrow — «низкобровый»), и даже не средней (middlebrow) , а существующей вообще вне старой иерархии вкуса. Сибрук написал замечательную и очень полезную книгу о том, что границы между элитарной и коммерческой культурой размылись, об изменившейся природе авторства и о месте и роли в новой системе аристократических культурных институтов вроде хорошо известных нам музеев. С любезного разрешения Центра современной культуры «Гараж» мы публикуем фрагмент главы «От аристократизма к супермаркету».

В монографии Сибрука нет иллюстраций. Но «Артгид» гордится тем, что он богато иллюстрированное издание. Мы подумали и решили подойти к этому вопросу в стиле Nobrow: ввести в поисковый запрос Google ключевые для этого текста слова и словосочетания — nobrow, «шум», «аристократизм», «супермаркет» и др. — и посмотреть, какой визуальный эквивалент предложит поисковик.
3. От аристократизма к супермаркету
 <…> Та же самая проблема, что встала перед «Нью-Йоркером» в девяностые годы, была типична и для многих культурных институтов — музеев, библиотек, фондов: как впустить в себя Шум
, чтобы сохранить живость и кредитоспособность, но при этом не потерять своего морального авторитета, который хотя бы отчасти основывался на исключении Шума
?
<…> Та же самая проблема, что встала перед «Нью-Йоркером» в девяностые годы, была типична и для многих культурных институтов — музеев, библиотек, фондов: как впустить в себя Шум
, чтобы сохранить живость и кредитоспособность, но при этом не потерять своего морального авторитета, который хотя бы отчасти основывался на исключении Шума
?


MTV стал моим приглашением в то, что я позже назвал ноубрау . Очень неконкретная идея Тины состояла в том, чтобы я провел какое-то время на MTV и написал, как функционируетэтот телеканал. Несмотря на историческую и культурную удаленность друг от друга, MTV располагался достаточно удобно,на углу Сорок четвертой и Бродвея, в пяти минутах ходьбы от«Нью-Йоркера». И я целый месяц перемещался туда и обратно, к Тайм-сквер и назад.

 Я попытался отразить все это схематически. Культура супермаркета получилась такой:
Я попытался отразить все это схематически. Культура супермаркета получилась такой:
Индивидуальность
Субкультура
Культура мейнстрима
А аристократическая культура выглядела так:
Высокая культура
Культура среднего интеллектуального уровня
Массовая культура

Если старая иерархия была вертикальной, то новая иерархия ноубрау существовала в трех или больше измерениях. Субкультура выполняла ту же роль, что когда-то и высокая культура: здесь вырабатывались тенденции для культуры вообще. В ноубрау субкультура была новой высокой культурой, а высокая культура превратилась лишь в еще одну субкультуру. Но над субкультурой и мейнстримом находилась идентичность — единственный общий стандарт, кантианская «субъективная всеобщность».

Начав с супермаркета и двигаясь в обратном направлении, можно узнать кое-что об эволюции ноубрау . Здание аристократической культуры всегда было разделено на верхний и нижний этажи. На верх нем вместе с признанными творцами располагались богатые люди, на чьи деньги строились музеи и оперные театры, в которых бережно хранилась высокая культура. На нижнем этаже находились массы, смотревшие сериалы вроде «Копов», слушавшие гангста-рэп и читавшие «Нью-Йорк пост». Если массам вход на верхний этаж был воспрещен, то элита иногда снисходила на нижний уровень, словно Кейт Уинслет, спустившаяся с верхней палубы в фильме «Титаник», чтобы насладиться простыми радостями и поностальгировать о временах до первородного греха, превратившего культуру в товар и сделавшего необходимым существование бастиона аристократической культуры.

А почему это было необходимым? Чтобы защитить настоящих художников и писателей от атак рынка. Бастион аристократической культуры сформировался в конце восемнадцатого столетия, когда отношение художника к тем, кто его финансировал, начало меняться. Меценатство угасало, читатели среднего класса и коммерческие издательства, напротив, множились, художники и писатели, подчинявшиеся раньше диктату своих покровителей, были брошены на милость рынка. И если в некоторых отношениях этот новый покровитель, рынок, оказался более лояльным — художнику, например, впервые была дана свобода в выборе тем для своего творчества, — то в других отношениях рынок оказался еще большим тираном. Он был необразован, нечувствителен, на него легко было нагнать скуку, и он плевать хотел на высокие стандарты старых покровителей. Некоторым художникам и писателям удалось угодить новому покровителю лишь за счет принесения в жертву старых стандартов.

Таким образом возникла необходимость в системе, которая бы позволила отделить творцов от ремесленников, и подлинное искусство старой аристократии от коммерческого искусства, производимого культур- капиталистами для только что урбанизированных масс. Таким образом, романтическое понятие «культура» эволюционировало для удовлетворения этой потребности. Само слово, по мнению Вордсворта и Колриджа, имело два источника происхождения: французское civilisation , означавшее процесс интеллектуального, духовного и эстетического развития, и немецкое Kultur , описывающее любой характерный стиль жизни. Французское слово было консервативным и однозначным, включая в себя и моральную составляющую, немецкое — более релятивистским и не связанным напрямую с моралью. Английское слово culture стало гибридом этих двух, хотя в девятнадцатом веке и было ближе по употреблению к строгому французскому отцу, чем к более вольной немецкой матери. Поскольку культура пришла в Америку из Франции и Англии, французское значение слова доминировало.

Согласно романтической концепции культуры, произведения настоящих художников и писателей были высшей реальностью — работами, которые благодаря своей креативности возносились над повседневным миром стандартной культурной продукции. Сами художники считались исключительными, одаренными существами со сверхъестественными талантами — страстными гениями, творившими не на продажу, а во имя высшего идеала. Как написал Реймонд Уильямс в книге «Культура и реальность», «известно, что одновременно с ростом рынка и идеи профессионального производства возникла и другая система восприятия искусства, в которой самыми важными элементами являются, во-первых, особое отношение к произведению искусства как "творческой истине”, и, во-вторых, признание творца как особого существа. Существует соблазн рассматривать эти теории как прямой ответ на последние изменения в отношениях между художником и обществом… Во времена, когда художник воспринимается лишь как еще один производитель рыночного товара, сам он считает себя особо одаренным человеком, путеводной звездой повседневной жизни». Короче говоря, понятие «культура» всегда было частью разумной рыночной стратегии.

От Вордсворта до группы Rage Against the Machine искусство, созданное из идеалистических соображений при явном пренебрежении рыночными законами, считалось более ценным, чем искусство, созданное для продажи. Художнику было недостаточно просто иметь талант давать людям то, что они хотят. Для достижения славы художнику нужно было притвориться, что его не волнует, чего люди хотят. Это было довольно сложно сделать, поскольку любой художник стремится к общественному одобрению, как и вообще любое человеческое существо. Оскар Уайльд — известный тому пример. В своем эссе «Душа человека при социализме» он написал: «Произведение искусства есть уникальное воплощение уникального склада личности. Оно прекрасно потому, что его творец не изменяет себе. Оно совершенно независимо от помыслов окружающих, каковы бы эти помыслы ни были. И в самом деле, лишь только художник начинает учитывать помыслы других людей и пытается воплотить чужие требования, он перестает быть художником и становится заурядным или ярким умельцем, честным или нерадивым ремесленником». Естественно, Уайльд хорошо знал, чего хотят люди и как это им дать. Он использовал свои эссе, чтобы утаить эту свою способность.

Во второй половине двадцатого века здание аристократической культуры рухнуло. Это произошло мгновенно, подобно землетрясению, когда Энди Уорхол выставил свои рисунки суповых консервов и банок кока-колы в галерее «Стейбл» в 1962 году. Но в то же время это был и очень медленный процесс, потому что в двадцатом веке глубокие структурные проблемы высокой культуры подчеркивались уже одним только разнообразием и изобретательностью культуры коммерческой. Критики, кураторы и редакторы мужественно боролись за сохранение границы между высоким искусством и поп-культурой, между ручной работой и конвейерным производством, между уникальным и многократно повторенным. Эти культурные арбитры воевали с рестлерами, дивами мыльных опер и ведущими ток-шоу, стремясь сохранить какой-то смысл в традиционном разделении на старую элитарную культуру и новую коммерческую культуру. Последним оплотом нью-йоркских интеллектуалов в войне за старую культуру была самоирония, но и она оказалась лишь временной мерой. Ее тоже скоро смели и раздавили поп-культурные орды.

По мере того как границы между элитарной культурой и коммерческой размывались, сами слова «коммерческий» и «продаться» стали пустым звуком. Вопросы старых культурных арбитров вроде «Хорошо ли это?» и «Искусство ли это?» были заменены вопросом «Чье это искусство?». Выбор «лучшего, что существует в мире», говоря словами Арнольда, — то, что раньше было привилегией, долгом и моральной работой культурных арбитров, — превратился в нечто аморальное, в попытку элиты навязать массам весьма скудный набор интересов. Целое поколение культурных арбитров, чей авторитет в той или иной степени зависел от сохранявшегося разделения на элитарную и коммерческую культуру, было постепенно вытеснено, и его место заняло новое поколение, умевшее адаптировать любой контент к той или иной демографической или «психографической» нише. Произошел трудноуловимый, но имеющий огромное значение переход власти от индивидуальных вкусов к авторитету рынка.
 Чудотворения по молитвам преподобного игумена мефодия пешношского чудотворца
Чудотворения по молитвам преподобного игумена мефодия пешношского чудотворца Как приготовить салат из свежих кабачков: рецепты с фото Салат из кабачков овощечисткой
Как приготовить салат из свежих кабачков: рецепты с фото Салат из кабачков овощечисткой Рецепт: Песочное печенье из ржаной муки - в духовке Печенье из ржаной муки
Рецепт: Песочное печенье из ржаной муки - в духовке Печенье из ржаной муки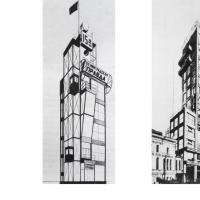 Здание известие. Известия
Здание известие. Известия Космическая Лайка: собака, растрогавшая весь мир Число рождения для мужчины
Космическая Лайка: собака, растрогавшая весь мир Число рождения для мужчины Рецепт: Кекс на сливках - с белковой глазурью Простой рецепт кекса с обилием сухофруктов
Рецепт: Кекс на сливках - с белковой глазурью Простой рецепт кекса с обилием сухофруктов Мужские имена и их значение
Мужские имена и их значение